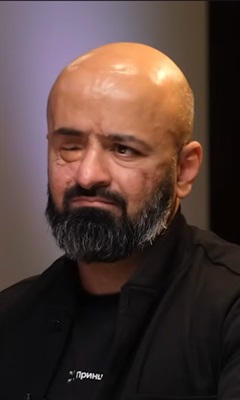Пять лет назад Денис Дудин возглавил отделение кардиореанимации Бердянского ТМО. А в прошлом году, с введением в действие ковидного госпиталя, стал заведующим отделением интенсивной терапии в нем. И с особой остротой прочувствовал то, чему его учили все предыдущие годы: главное – профессионализм, сплоченность и преданность профессии всей команды. Он называет это температурой в коллективе.

«Хочу научиться делать все»
После 9-го класса 20-й школы Денис Дудин поступил в Бердянский медколледж. Окончив его с красным дипломом, выбрал реанимацию.
– На вопрос в отделе кадров горбольницы, где бы я хотел работать, ответил: «Хочу научиться делать все». И мне предложили идти в реанимацию. Тогда было место у Виктора Владимировича Мурачева, к сожалению, рано ушедшего из жизни.
– То, что в народе называли отделением искусственной почки?
– Да, я проработал медбратом полгода, и это была очень хорошая школа. А после – подал документы в Запорожский мединститут и Днепропетровскую медицинскую академию и поступил.
– В оба вуза?
– Да, но выбрал Днепр. С начала второго курса и до окончания, практически пять лет, я работал в реанимационном отделении нейрохирургии областной больницы имени Мечникова. Там очень сильная команда именно в нейрохирургии, и весомый процент моих знаний – именно оттуда.
– Я слышала, что вместе с вами «учился» и ваш ребенок?
– Да, старший сын родился, когда я учился на третьем курсе, и мы тогда с супругой жили в общежитии. Иной раз приходилось нам брать его с собой на занятия. Когда ребенок подрос, он переехал в Бердянск к бабушкам, а мы полностью отдались учебе. А когда дошло дело до специализации то переехали в Бердянск.
«Все – в твоих руках»
– И вы приехали в Бердянск уже врачами. К кому на этот раз пришли?
– К своим непосредственным руководителям. У меня был и по сути остается по сей день Рашид Равильевич Насибуллин, к нему я и пришел. Он удивился: «Как быстро летит время. Ты – уже врач». Потом поговорил со мной и произнес очень важную для меня фразу: «Если хочешь чему-то научиться, я научу. Но бегать за тобой не буду. Все – в твоих руках».
– Так начались Ваши университеты уже с Рашидом Равильевичем. Но Вы ведь не так уж долго с ним работали. Судьба преподнесла Вам большой сюрприз. Когда Дмитрия Егорова избрали директором ТМО, он должен был передать кардиореанимацию, которой заведовал, в надежные руки. Вы сразу согласились?
– Нет, далеко не сразу. Причины были очень весомыми. Во-первых, я к тому времени всего лишь около двух лет был у Рашида Равильевича. А специальность очень сложная, требующая больших знаний и серьезной ответственности. От выбранного тобой пути лечения в прямом смысле зависит жизнь человека. Нет ничего дороже человеческой жизни. Плюс к этому – опыта руководящей работы у меня совершенно не было. Признаюсь, это предложение стало для меня настоящим стрессом. Я отказывался, брыкался… Во-вторых, вот-вот должен был родиться второй ребенок. Я понимал, что работа заведующего потребует очень много времени. Это не смогу отработать смену и уйти… И если раньше я и другие врачи со всеми сложными вопросами шли к Рашиду Равильевичу, то теперь – ко мне. И это очень сложные вопросы…
– Конечно, это же – реанимация. И как долго Вы «брыкались»?
– Отказывался два раза. На третий Дмитрий Владимирович Владимирович сказал, что приказ подписан, надо приступать к работе. Конечно, в этот период я очень много общался с Рашидом Равильевичем, Дмитрием Владимировичем, мы обсуждали вопросы стратегии и тактики моей вероятной новой работы.
– Сколько лет было Вам? И когда это было?
– Мне было тогда 27 лет, и я пришел заведовать кардиореанимацией 2 июля 2016 года.

Был Денис, стал Денис Петрович
– Денис Петрович, Вы помните свой первый день на новом месте? Это же не просто переезд из семиэтажки в терапевтический корпус. Кроме всего прочего: был Денис, стал Денис Петрович…
– Помню все, конечно. Новый корпус, новый коллектив. Кроме Дмитрия Владимировича, естественно, знал немного коллег по цеху – докторов. Со средним и младшим медицинским персоналом практически не был знаком, немного – со старшей сестрой Людмилой Николаевной Варавой. Все новое.
– И – кардиология.
– Да, но кардиология мне очень нравилась еще в студенческие годы. Встретили меня настороженно, что совершенно естественно, но все же тепло. Дмитрий Владимирович представил меня коллегам, а их – мне, показал отделение, рассказал многое. Так мы и начали работать.
Ковид
– Сейчас будем говорить о беде, которая обрушилась на весь мир, на Бердянск – в том числе. Вы лично и Ваши коллеги сразу осознали масштаб этого бедствия?
– Честно говоря, и я, и многие коллеги поначалу надеялись, что ковид все же минует наш город. Но очень скоро мест для коронавирусных больных в инфекционном отделении перестало хватать. С весны администрация уже готовила терапевтический корпус под ковидный госпиталь. Кардиологию, в том числе кардиореанимацию, неврологию, эндокринологию перевели в семиэтажку.
Тем временем готовились и помещения, и персонал для работы в новых и пока незнакомых условиях. Было много различных тренингов, на очень серьезном уровне, с привлечением большого количества персонала. С облачением в защитные костюмы, в которых люди были довольно длительное время. Просчитывалась вся логистика действий до минут и секунд. Без конца возникало очень много вопросов, ежедневно над их решением трудилось много людей: Дмитрий Владимирович, Рашид Равильевич, Тамара Александровна Олейникова, начмед, старшие сестры отделений, которые были в этом корпусе раньше, главная медсестра. Много среднего медперсонала, потому что без медсестер работа просто невозможна. Каким бы выдающимся или даже гениальным ни был врач, без медсестер добиться положительного результата в лечении просто невозможно.
– Практически два месяца коллектив с полной выкладкой готовился к приему больных. Скажите, пожалуйста, то, что кардиореанимация в последние годы была отремонтирована с соблюдением технологических требований, оснащена необходимым оборудованием, сыграло свою роль, когда больные пошли потоком?
– Безусловно. Большее помещение – значит, можно разместить большее количество больных. Они все – на виду. Новая вентиляция, кислородная магистраль, возможность подключения энергоемкого оборудования – все это сыграло немаловажную роль.
– И наступил день, когда ковидный госпиталь начал принимать больных.
– Я, как сейчас, помню его. Позвонил Дмитрий Владимирович: «Денис Петрович, берем персонал, выдвигаемся в ковидный госпиталь и начинаем принимать больных. Это – не учения. Места в инфекционном отделении закончились».
Мы пришли из семиэтажки, в госпитале были Дмитрий Владимирович, Рашид Равильевич, Тамара Александровна, Юрий Леонидович Писаренко, замдиректора по хирургии. Собрался персонал, еще раз «пробежали» по основным моментам и начали в тот же день принимать пациентов.
– Денис Петрович, если говорить о температуре воздуха, как работалось и работается персоналу в защитных костюмах, когда необходимо несмотря ни на что обеспечить весь объем помощи тяжело больному человеку?
– Даже во время тренингов было очень сложно. Начиналась одышка, тахикардия и другие негативные реакции. Крайне сложно длительное время находиться в защитных костюмах, в респираторах даже молодым людям, даже мне. За физической нагрузкой приходит эмоциональная. Очень много тяжелых пациентов, много людей умирает. Такова, к сожалению, специфика реанимационных отделений. Работа в ковидном госпитале полностью сломала стереотипы привычной работы.

– Сколько коек в ковидной реанимации?
– На первом этаже разворачивалось максимум 24 койки, на втором – 16 коек. По факту работают два реанимационных отделения. Так называемые койки интенсивной терапии перевели из семиэтажки, из приемно-диагностического отделения. Плюс кардиореанимация.
– Денис Петрович, как выдерживает персонал? Людям приходится видеть страдания, вывозить умерших… Умирать с каждым пациентом невозможно… Полностью абстрагироваться? Сомневаюсь…
– Очень сложный вопрос. Очень… Я много об этом думал… У каждого свой темперамент, свой ресурс, но полностью абстрагироваться от этого невозможно. Логически понимаешь, что команда сделала все возможное, что человек объективно не мог выжить… Но каждый раз думаешь, анализируешь, сидишь над историей болезни… И тяжелую весть еще надо сообщить родственникам.
– Это делает врач?
– Только врач.
– Что помогает Вам держаться?
– Поддерживаем ту температуру в коллективе, о которой мы говорили. У меня нет права на слабость, как бы ни преследовали разные мысли – на меня смотрит коллектив. И – как-то менять обстановку за пределами работы. Может, выбираться на природу. Общение в семье, с друзьями, положительные эмоции.
– Какой месяц был самым трудным? Каким было максимальное количество больных в госпитале?
– Декабрь. Антирекорд по находившимся на интенсивных койках, в реанимации. Ежедневно поступало до 25-30 человек. Максимальное количество больных доходило до 175.

– Как же вы справились?..
– Работали… Кто-то из персонала, к сожалению, болел, временами персонала не хватало. И люди работали за себя и не за себя, просто на износ.
– Эта инфекция перевернула все правила общения с родственниками, которые хотят услышать от врача информацию о состоянии близкого человека. Плюс – надо, как мне кажется, как-то успокоить, дать надежду больному, который напуган самим фактом нахождения в ковидном госпитале, вокруг – персонал в, простите, космонавтских скафандрах, лиц не видно… Может, я преувеличиваю?
– Нет, это действительно очень серьезные проблемы. Простая математика. Если даже, возьмем по максимуму, в отделении находятся 5-8 врачей, а общается с родственниками только врач, при 175 пациентах, пусть при ста, уделить каждому родственнику хотя бы пять минут (а в них не уложишься, поверьте) – на общение суток не хватит. А врач обязан прежде всего оказывать помощь больному. Сейчас пациентов значительно меньше, и проблема общения с родственниками практически решена.
В первые месяцы работы госпиталя приходилось объяснять больному, почему мы так одеты, почему необходимо то-то и то-то… Всегда надо дать надежду, потому что от позитивного настроя пациента на 80 процентов зависит успех лечения. Больной вместе с нами должен бороться за свою жизнь. Это – факт, не шутки, не выдумки. Отношению к больному я учился, прежде всего, у Рашида Равильевича, с которым работал рядом. Каким-то моментам – у Тамары Александровны, Дмитрия Владимировича.
– Знаете, вам, молодым докторам, и Вам – Денису Петровичу Дудину, повезло: вам есть у кого учиться.
– Несомненно. Я очень благодарен всем наставникам и продолжаю у них учиться!
Беседовала Валентина Прядченко